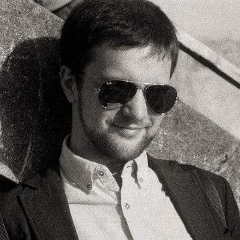До 1846 г. главенствовали религиозные и медицинские убеждения о том, что боль является неотъемлемой частью ощущений и, соответственно — самой жизни. В начале 19 века врачи, интересовавшиеся обезболивающими свойствами эфира и закиси азота, считались чудаками и барыгами. Их осуждали не столько за практическую сторону вопроса, сколько за моральную: они стремились эксплуатировать основные и малодушные инстинкты своих пациентов.
Но спустя полвека после первых экспериментов c эфиром, решительное сопротивление безболезненной хирургии все еще существовало, как с медицинской, так и с религиозной стороны. С незапамятных времен в религии боль расценивалась как сопутствующий элемент первородного греха и, будучи таковой, — как несокращаемая составляющая условий человеческого бытия. Боль часто объяснялась, как милость Господня, «глас природы», который удерживает нас от беды, предупреждая о физических опасностях.
Такой взгляд отразился и в медицинском мировоззрении того времени. Многие врачи по-прежнему считали, что именно благодаря боли пациенты не умирали во время операций. Общий отказ систем организма вследствие болевого шока был частой причиной смерти во время хирургической операции, и считалось, что из-за потери чувствительности смертность станет еще выше. Прогноз кричащего, пусть и мучающегося, пациента лучше, чем вялого и безжизненного.
Несмотря на все успехи, сопротивление этой идее не исчезло в одночасье. До конца века некоторые врачи придерживались мнения, что боль играет важную роль в сохранении жизни, но с 1846 года тех, кто настаивал, что работа врача заключается именно в том, чтобы причинять как можно меньше боли, стало и становилось все больше. Некоторые религиозные голоса еще долго не утихали: лишь в феврале 1957 года Римский Папа Пий XII подтвердил, что «христианский долг отрешения и внутреннего очищения не является препятствием для применения анестезии».
Но спустя полвека после первых экспериментов c эфиром, решительное сопротивление безболезненной хирургии все еще существовало, как с медицинской, так и с религиозной стороны. С незапамятных времен в религии боль расценивалась как сопутствующий элемент первородного греха и, будучи таковой, — как несокращаемая составляющая условий человеческого бытия. Боль часто объяснялась, как милость Господня, «глас природы», который удерживает нас от беды, предупреждая о физических опасностях.
Такой взгляд отразился и в медицинском мировоззрении того времени. Многие врачи по-прежнему считали, что именно благодаря боли пациенты не умирали во время операций. Общий отказ систем организма вследствие болевого шока был частой причиной смерти во время хирургической операции, и считалось, что из-за потери чувствительности смертность станет еще выше. Прогноз кричащего, пусть и мучающегося, пациента лучше, чем вялого и безжизненного.
Несмотря на все успехи, сопротивление этой идее не исчезло в одночасье. До конца века некоторые врачи придерживались мнения, что боль играет важную роль в сохранении жизни, но с 1846 года тех, кто настаивал, что работа врача заключается именно в том, чтобы причинять как можно меньше боли, стало и становилось все больше. Некоторые религиозные голоса еще долго не утихали: лишь в феврале 1957 года Римский Папа Пий XII подтвердил, что «христианский долг отрешения и внутреннего очищения не является препятствием для применения анестезии».
Until 1846, religious and medical beliefs prevailed that pain was an integral part of sensations and, accordingly, life itself. At the beginning of the 19th century, doctors who were interested in the anesthetic properties of ether and nitrous oxide were considered cranks and hucksters. They were condemned not so much for the practical side of the question, as for the moral one: they sought to exploit the basic and craven instincts of their patients.
But half a century after the first experiments with ether, the decisive resistance of painless surgery still existed, both from the medical and the religious side. From time immemorial in religion, pain has been regarded as a concomitant element of original sin and, as such, as an irreducible component of the conditions of human existence. The pain was often explained as the grace of the Lord, the “voice of nature”, which keeps us from misfortune, warning of physical dangers.
This view was reflected in the medical worldview of the time. Many doctors still believed that it was thanks to the pain that patients did not die during operations. The general failure of body systems due to pain shock was a frequent cause of death during surgery, and it was believed that due to loss of sensitivity, the death rate would be even higher. The prognosis of a screaming patient, albeit tormented, is better than a lethargic and lifeless one.
Despite all the successes, the resistance to this idea did not disappear overnight. Until the end of the century, some doctors were of the opinion that pain plays an important role in saving lives, but from 1846, those who insisted that the work of a doctor was precisely to cause as little pain as possible became and became more and more. Some religious voices did not subside for a long time: only in February 1957, Pope Pius XII confirmed that "the Christian duty of detachment and internal cleansing is not an obstacle to the use of anesthesia."
But half a century after the first experiments with ether, the decisive resistance of painless surgery still existed, both from the medical and the religious side. From time immemorial in religion, pain has been regarded as a concomitant element of original sin and, as such, as an irreducible component of the conditions of human existence. The pain was often explained as the grace of the Lord, the “voice of nature”, which keeps us from misfortune, warning of physical dangers.
This view was reflected in the medical worldview of the time. Many doctors still believed that it was thanks to the pain that patients did not die during operations. The general failure of body systems due to pain shock was a frequent cause of death during surgery, and it was believed that due to loss of sensitivity, the death rate would be even higher. The prognosis of a screaming patient, albeit tormented, is better than a lethargic and lifeless one.
Despite all the successes, the resistance to this idea did not disappear overnight. Until the end of the century, some doctors were of the opinion that pain plays an important role in saving lives, but from 1846, those who insisted that the work of a doctor was precisely to cause as little pain as possible became and became more and more. Some religious voices did not subside for a long time: only in February 1957, Pope Pius XII confirmed that "the Christian duty of detachment and internal cleansing is not an obstacle to the use of anesthesia."
У записи 3 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Илья Клабуков